* Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение email-сообщений от Высшей школы «Среда обучения»
школа родченко онлайн / 6 марта
Язык не может быть заимствован, он может быть только выработан
Мария Молокова поговорила с Евгенией Сусловой о волнующих вопросах состояния текста в практике художника, о поиске собственного пути и онлайн-образовании.
- Евгения СусловаХудожник, поэт, исследователь языка и медиа. Закончила Школу фотографии и мультимедиа им. Родченко (мастерская «Интерактивные, коммуникационные и смешанные медиа»); кандидат филологических наук. Автор поэтических книг «Свод масштаба» (2013) и «Животное» (2016). Преподаватель курса «Теория и практика написания текста» в мастерской Владислава Ефимова и Алексея Корси «Проектная фотография».
— Расскажи о своем бэкграунде — в каких отношениях с письмом ты находишься?
— Вообще вся моя жизнь связана с письмом. Я систематически пишу с 14 лет. Закончила бакалавриат и магистратуру филологического факультета. Занималась сначала американской литературой, экспериментальной американской поэзией XX века (дискурсивными моделями), а потом в аспирантуре — лингвистикой. Я исследовала лингвистическую сторону современной русской поэзии, и моя работа посвящена тому, какие типы субъекта можно обнаружить в этих текстах и каковы стратегии развертывания текста. Я кандидат наук. Мой профессиональный интерес всегда был связан с экспериментальными способами построения текста, и наиболее интересна здесь поэзия, потому что это лаборатория текста.
Сама я пишу, как уже сказала, с 14 лет. У меня есть две поэтические книги. Одна — «Свод масштаба», она вышла в свободном марксистском издательстве / «Транслит» в 2013 году, а вторая — «Животное», вышла в «Красной ласточке» в 2016 году, и она больше похожа на книгу художника, но все-таки еще поэтическая книга.
Книга Евгении Сусловой «Животное». Издательство «Красная ласточка». →
Книга Евгении Сусловой «Животное». Издательство «Красная ласточка». →
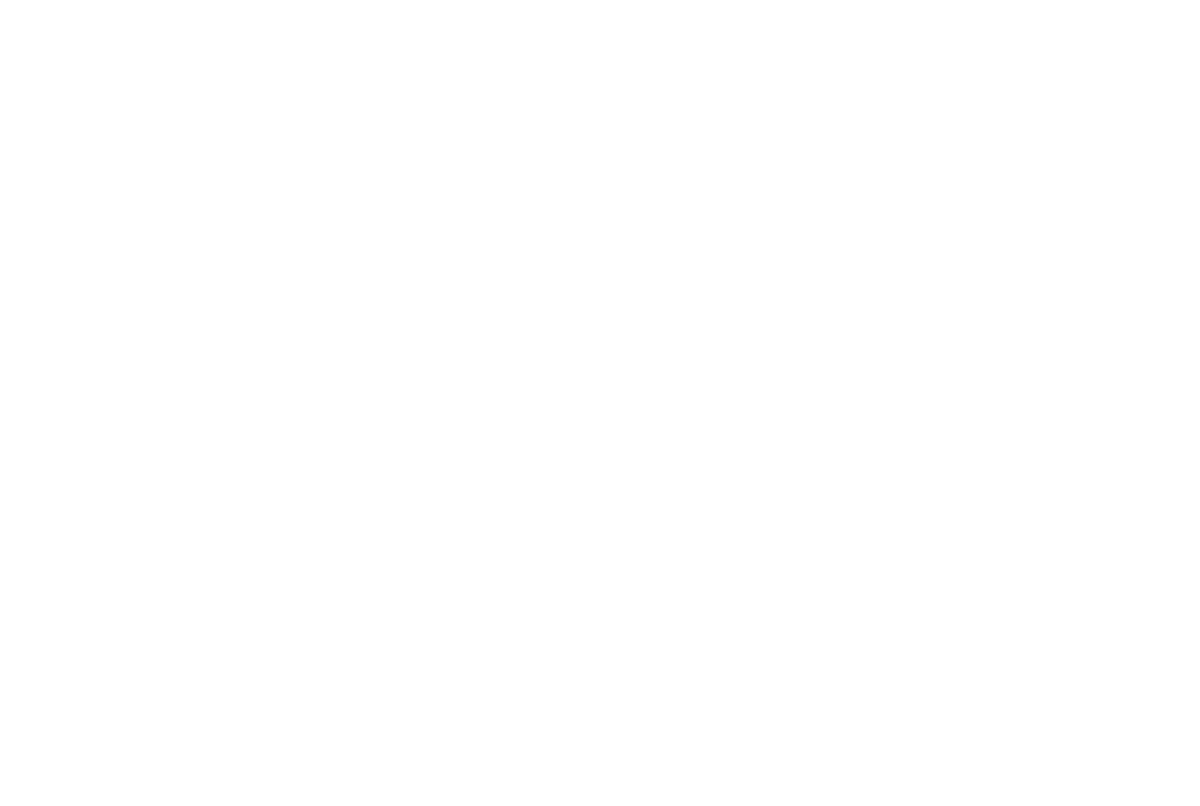
Сама я пишу, как уже сказала, с 14 лет. У меня есть две поэтические книги. Одна — «Свод масштаба», она вышла в свободном марксистском издательстве / «Транслит» в 2013 году, а вторая — «Животное», вышла в «Красной ласточке» в 2016 году, и она больше похожа на книгу художника, но все-таки еще поэтическая книга.
Книга Евгении Сусловой «Животное». Издательство «Красная ласточка». ↓
Книга Евгении Сусловой «Животное». Издательство «Красная ласточка». ↓
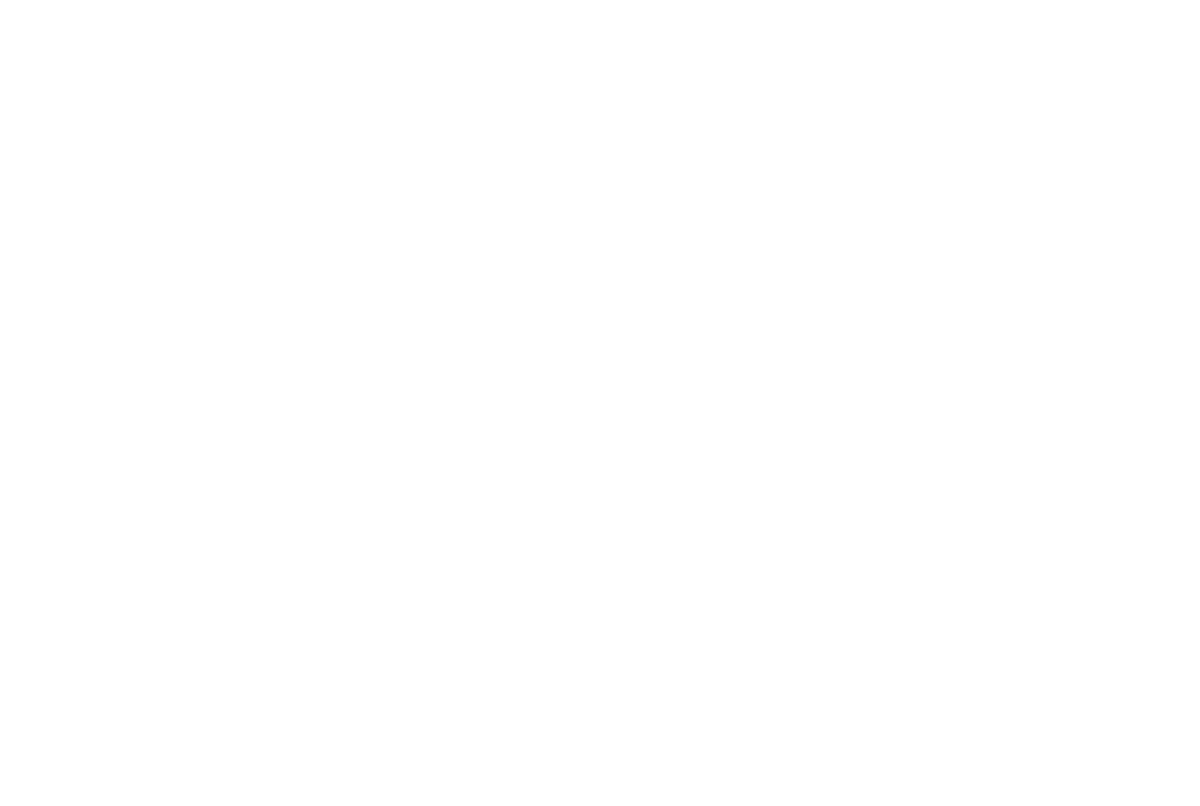
Позже я стала интересоваться Software Studies и всем остальным, связанным с медиаанализом, и поняла, что современные технологии позволяют подойти к тексту особым образом, и фокус моих интересов сместился. Я стала думать, как современные коммуникационные формы влияют на построение текста. В частности, меня очень интересуют интерфейсы как проблема, а в плане медиаискусства — как практика.
Мне интересно создавать различные странные коммуникационные инструменты, которые позволяют выявить те скрытые аспекты взаимодействия людей в повседневной коммуникации, которые выходят на поверхности здесь, в специальных ситуациях, и интересно вообще разрабатывать разные коммуникаторы — для того, чтобы понять, как технологии влияют на людей, на их взаимодействие.
Поэтому, да, можно сказать, что вся моя жизнь связана с текстом, с коммуникацией — и художественная, и исследовательская.
— Сразу возникает такой вопрос, как ты пришла в современное искусство? То есть ты всё время занималась текстом, поэзией. Как ты решила поступить в Школу им. Родченко и получить художественное образование?
— Немного я занималась музыкой, работала с голосом, пела, но это нельзя было назвать профессиональным занятием. В какой-то момент, когда в 2016 году вышла вторая книга, я поняла, что те вопросы, которые я ставлю, я не могу решить только с помощью текста, и мне хотелось выйти к построению сред в живом режиме, в инсталляционном и перформативном.
И к этому моменту я уже обнаружила, что, например, языки программирования развиваются очень похоже на то, как меняются какие-то дискурсивные модели в тексте. Я прочитала Ж. Симондона, и он поразил мое воображение. Я поняла, что мне интересно изучать технологии, потому что без этого я не понимаю, не могу схватить кое-какие тонкие процессы.
«Моделировать ситуации мне интереснее в живом режиме, а не в тексте»
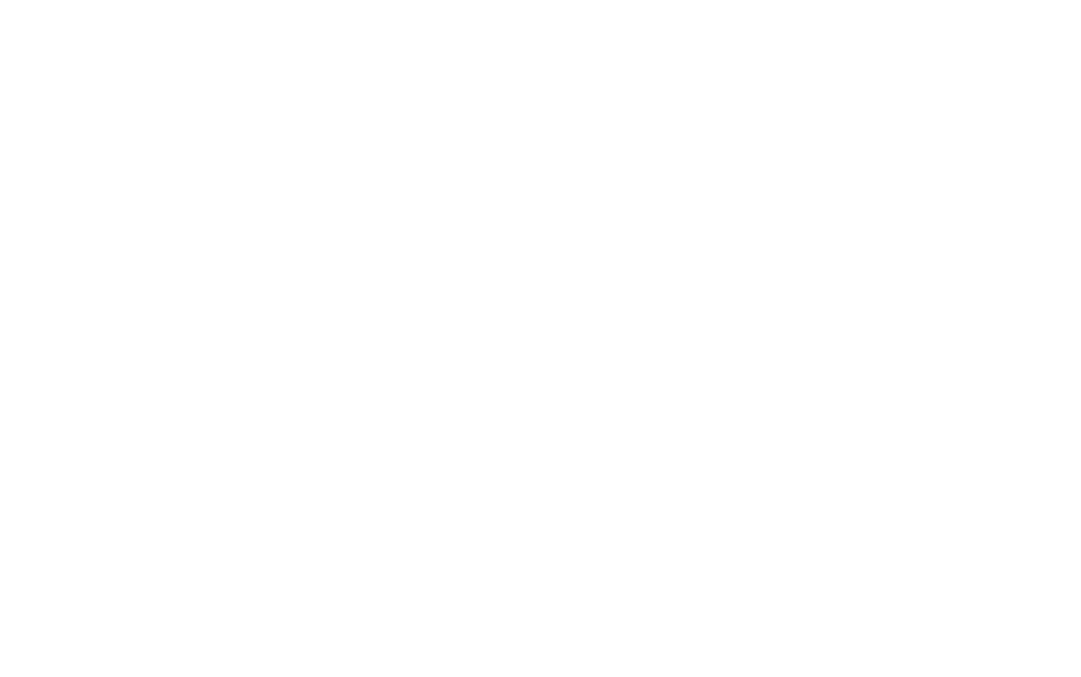
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «Сеанс», 2018
И в этом смысле интерактивные медиа, мастерская Шульгина и Чернышева — это и есть для меня абсолютно логичное продолжение всех текстовых практик, потому что технологии трансформируют нашу чувственность, сдвигают поведенческий опыт, они меняют представление об информационном поведении, и я их рассматриваю неотрывно от языка.
— Насколько важен, как в твоем случае, дополнительный бэкграунд в занятиях технологическим или медиаискусством?
— Мне кажется, что бэкграунд не так важен. В основном, в медиаискусство, насколько я поняла, приходят либо из технической сферы, либо из дизайна. Но вообще очень по-разному. И тут важнее не какой-то конкретный бэкграунд, а некий нерв, вопрос, который человек ставит, может быть, даже не формулируя его отчетливо, и отвечает на него всей своей деятельностью. То есть если человек настойчиво в совершенно разных сферах делает какие-то вещи и можно увидеть взаимосвязь между этими вещами, то, скорее всего, это означает, что он своей деятельностью отвечает на какой-то вопрос. Задача — обнаружить этот вопрос. И, собственно, художественная практика будет просто продолжением, может быть, кристаллизованной формой ответа на этот вопрос. Мне кажется, что самое главное — это просто накапливать инструменты, с помощью которых ты можешь решать проблемы, те же самые технические инструменты, гуманитарные инструменты, философские инструменты. Но сами по себе эти инструменты не важны, они оживляются только в отношении этого вопроса, в отношении этого нерва. Сейчас сложно позволить себе делать что-то второстепенное, потому что время идет. Значит, чем быстрее ты обнаружишь, что ты должен делать, в любой форме, тем лучше. Не обязательно это формулировать словами, хотя это тоже интересно.
— Методы обнаружения этого вопроса или нерва в искусстве — каждый обнаруживает самостоятельно или в своем курсе ты тоже это затрагиваешь, даешь руководство к действию?
— Частично я в разных курсах по письму касаюсь этого. У меня был курс сначала по академическому письму. Я преподавала в магистратуре университета физикам в Нижнем Новгороде. Потом у меня был более перформативный и художественный курс в галерее «Проун» в Москве. Потом в школе Родченко вместе с Сашей Евангели мы вели курс «Практика письма». И также несколько отдельных, индивидуальных курсов. И так или иначе этот вопрос всегда затрагивается, потому что это вопрос фокуса и вопрос построения субъектной позиции — места, из которого человек говорит.
«Вообще я бы начала с вопроса о том, зачем вообще в XXI веке писать, потому что текст — это достаточно старый медиум»
Есть же так много новых медиа. Существуют когнитивные обоснования (непосредственная связь с мозгом), но еще важнее, на мой взгляд, культурные основания, связанные с тем, что письмо позволяет трансформировать представление о субъекте и выстраивать некоторую субъектную позицию, которая потом влияет и на поведение, на конкретные действия, на принятие решений. Как к этому подойти? Самое простое — начать с анализа повторяющихся действий.
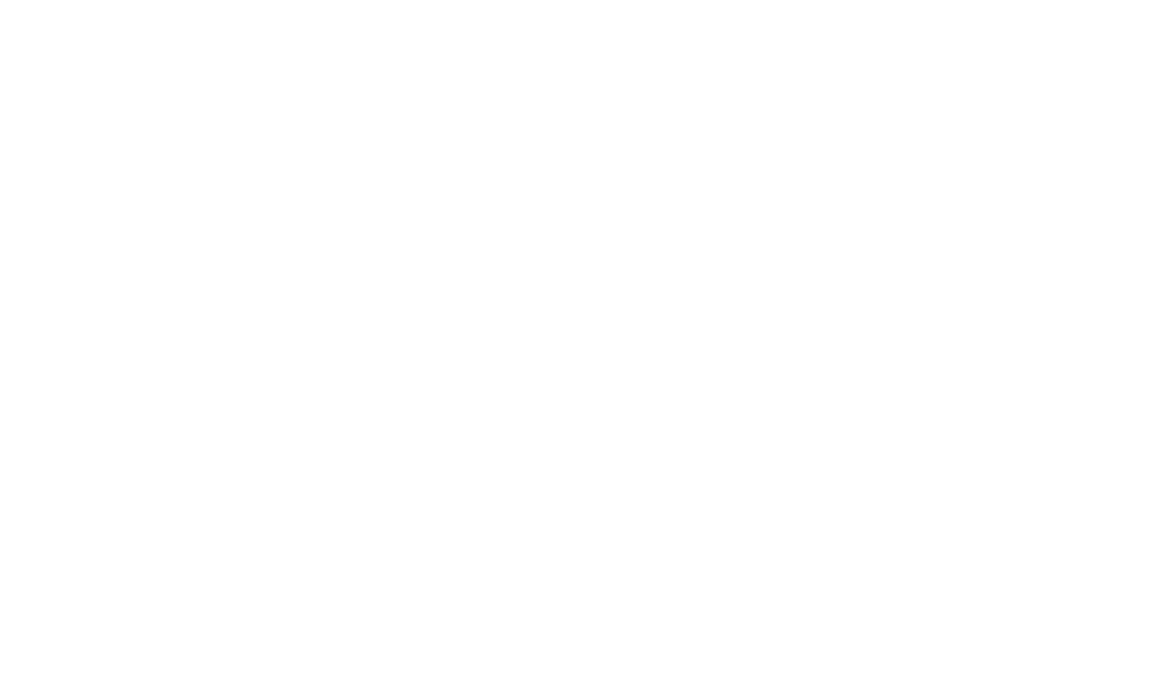
Вот это то, что приходит первое в голову. Например, выписать линейку каких-то своих художественных работ или череду событий из собственной жизни и попробовать почти искусственно обнаружить между ними общие моменты. Эти общие моменты могут касаться как каких-то деталей, например, я всегда использую одно и то же слово, когда формулирую что-то, или это может касаться чего-то более глобального. Здесь масштаб не так важен.
← Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «The Silent Schematic Party»
← Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «The Silent Schematic Party»
Вот это то, что приходит первое в голову. Например, выписать линейку каких-то своих художественных работ или череду событий из собственной жизни и попробовать почти искусственно обнаружить между ними общие моменты. Эти общие моменты могут касаться как каких-то деталей, например, я всегда использую одно и то же слово, когда формулирую что-то, или это может касаться чего-то более глобального. Здесь масштаб не так важен.
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «The Silent Schematic Party» ↓
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «The Silent Schematic Party» ↓
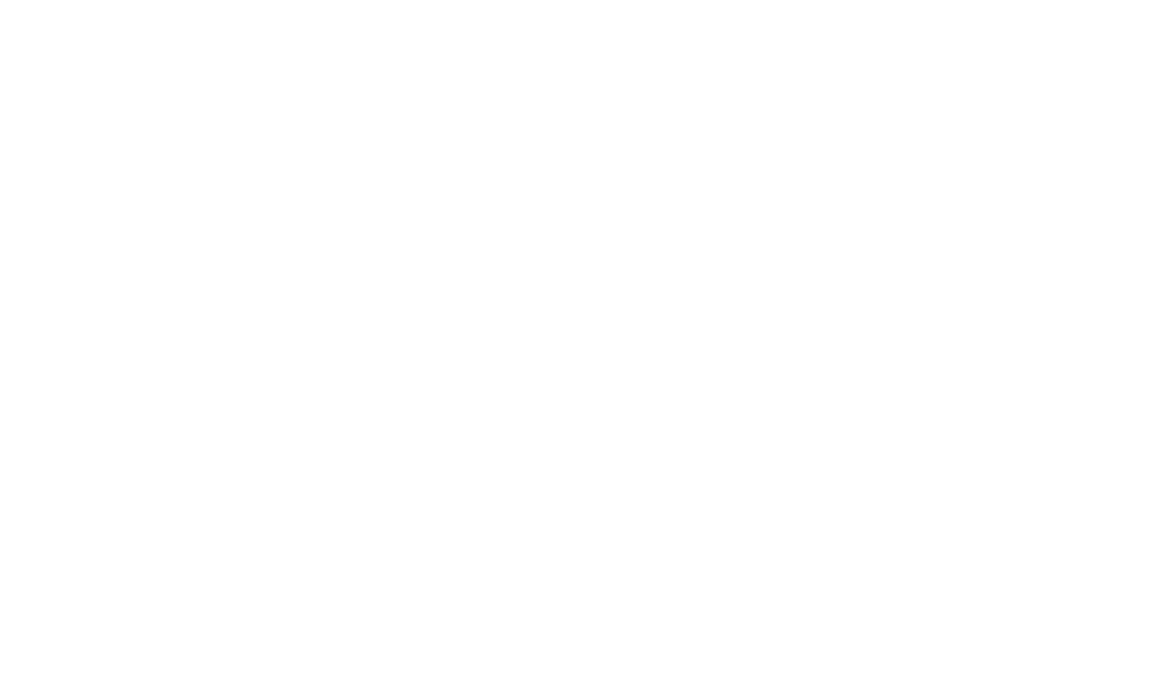
Когда ты выявляешь эти закономерности, то ответ, как правило, вообще не очевиден. Например, человек думает, что он делает одно, а обнаруживает, что он все время делает нечто иное, и там есть некая субъектная позиция по умолчанию, а он ее даже не осознает. Хорошо бы ее осознать.
— Поясни, пожалуйста, что такое «субъектная позиция» в твоем понимании?
— Субъектная позиция — это размещение себя на некоей воображаемой карте, онтологической карте своего мира, можно так сказать, которую ты для себя создаешь, ограничиваешь. Какие-то вещи туда попадают, какие-то не попадают, и ты, осознавая эту карту, по ней двигаешься в каком-то направлении. Потому что если ты двигаешься вне нее, то тогда наблюдается некоторая стихийность собственных действий. Например, ты соглашаешься на ту деятельность, которая, возможно, тебе вообще не нужна. Я искренне считаю, что избирательность — это добродетель. Она воспитывается.
Это очень важно, потому что это связано с созданием некоего многомерного целого, пространства своего действия, и ты должен понимать, где ты действуешь, на каком поле и какое действие является на данный момент оптимальным для тебя во всем. Например, сказать или не сказать сейчас, во время беседы что-то. Дело же не в том, что мысль хороша сама по себе, а дело в том, что она должна быть связана с ситуацией.
«И чувствительность к непроявленной форме ситуации — это то, что становится ощутимо, если субъектная позиция построена»
Часто говорят: «Я хочу писать». Почему? Мы все пишем по умолчанию. Мы учились в школе, в университете. Но что это значит? И, соответственно, дальше каждый пытается ответить на этот вопрос, для него писать — это что? Это тоже важно. То есть первые вопросы, на которые стоит ответить, с письмом и культурой связаны косвенно. Есть большая проблема для пишущих, для тех, кто делает это своей профессией, что они читали культурные тексты, они себе примерно представляют, что значит писать в культуре, читали модернистские романы, читали философские тексты, какие-то экспериментальные нарративы, и они начинают работать в уже предзаданной рамке. Но, возможно, это не нужно сейчас, то есть, возможно, сейчас вообще не нужен никакой роман, потому что в разные исторические периоды возникают разные метафоры информационного целого. Когда-то это была Библия, потом это была модель путешествия, энциклопедия, допустим, в эпоху Просвещения, потом это была книга-машина в модернистскую эпоху. В книге «Новая типографика» Ян Чихольд говорит, что мы должны подходить к книге как инженеры. Появляется новая индустриальная модель книги. Позже, в поствоенный период, возникает новая модель сети. Сегодня сложно сказать, какие именно модели действуют, это большой разговор. Но так или иначе вот эти метафоры, которые лежат в основе понимания текста и книги как целого, должны соотноситься с личной установкой. И получается, что, с одной стороны, нужно прояснить некоторый культурный ландшафт, для того чтобы построить эту онтологическую карту, а с другой стороны, надо прояснить свою позицию. И когда ты это делаешь, то уже тогда начинаешь отвечать на вопрос, что вообще я такое делаю, когда пишу, в какой это сфере должно быть.
Для меня, конечно, поэзия, письмо не существует изолированно. Оно для меня существует в сфере искусства, именно технологического искусства прежде всего, потому что без учета того, как текст функционирует там, вообще нельзя, мне кажется, ничего понять.
— То есть это в целом глобальный вопрос становления личности и ответа «кто ты», «где ты», и «куда ты идешь»?
— Да, но кто-то может решать это с помощью звука или визуального, а кто-то понимает, что для него принципиальна работа с текстом. Помимо всего прочего, текст может использоваться как некоторая подспудная форма. Например, Филипп Гранрийе, когда я была на его мастер-классе, рассказывал о том, что он пишет такие очень поэтически заостренные сценарии-верлибры, потому что он производит некоторую когнитивную разработку сценария, а потом, когда идет уже снимать в поле с операторами, он просто держит у виска это ощущение и снимает, отходя от этого сценария, не следуя букве. Но если бы он не проделал эту текстовую работу перед съемкой, то дальнейшая работа не была бы возможна. Дзига Вертов писал свои сценарии в виде верлибров, к тому времени форма сценария еще не устоялась, и в 1920-е была огромная дискуссия о сценарии, что это такое: театральный текст, литературный текст или техническая инструкция. Все по-разному работали. Сценарии Эйзенштейна, Вертова — это очень интересные документы сами по себе, и они носили чисто поэтический характер. И потом то, что было уловлено как целое, переносилось уже в визуальное, был такой трансперенос, ментальный транскодинг до цифровой культуры. В этом смысле текст может работать очень по-разному. Кроме того, при работе с текстом выходит на первый план, например, пространственная интуиция, кинестетическая интуиция, то есть ощущения своего тела, ощущение пространства, работа с длительностями, работа с ритмом, очень много вещей.
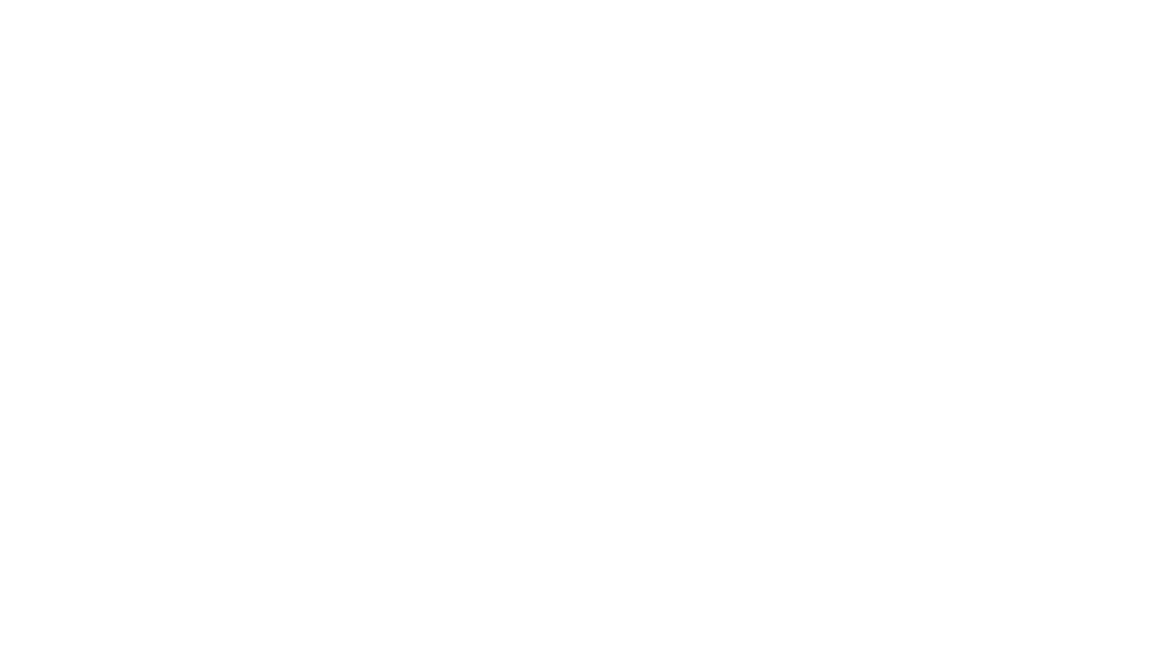
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «The Silent Schematic Party».
Слова — это только самый верхний слой, это то, что на самом последнем этапе приходит. И есть огромная работа, которую субъект пишущий проделывает до.
Соответственно, слова могут в других формах проявляться, в других медиумах, и там будет своя специфика. А вот при переходе от довербального к вербальному нужно знать определенные вещи, чтобы у тебя в те слова перешло. Иначе может так получиться, что-то, что ты себе представляешь, не транслируется. Несколько слоев работы получается. Процесс можно условно разделить на три слоя. Первый — это создание довербального плана, который уходит корнями в некую позицию субъекта и в создание онтологической карты, в которой он действует. Второй — это работа со словами, все, что касается культурного массива, анализа текстов и т. д., а также стиля. Третий слой — это сам переход. Нужно понять, что пишущий хочет. Он может говорить одно, использовать одни слова, но ты можешь смотреть на него и чувствовать, что хочет сказать он что-то другое. И здесь нужно отловить момент, когда ученик, студент тебе пытается впарить что-то автоматически. Нужно сделать здесь остановку и сказать: «Так, подожди» — и дальше применить ряд инструментов, для того чтобы он все-таки соотнес вот этот довербальный план и вербальный.
— Если переводить эту идею в утилитарные вещи: описание проекта, мотивационные письма для грантов и поступления, то, по сути, можно использовать эти методики и представления о своей субъектности для заполнения и написания такого рода текстов.
— Когда мы вели курс в Родченко с Сашей, там закладывалась целая встреча, и даже не одна, на создание CV и мотивационных писем. Я верю в прагматически ориентированные формы. В них точно так же всё проявляется, как и в других, более художественных. Очень часто человек делает в своей работе одно, а пишет в экспликации другое. И этот разрыв очень заметен. Дальше начинаешь разговаривать и работать над экспликацией, которая занимает абзац, и в итоге человек выдает вообще другое, потому что он с самого начала вложил в это другое, и первая экспликация оказалась не структурной по своему познавательному вектору и не соответствовала реально тому, что художник делает в своей практике. Для художников это особенно важно, потому что они не могут произвести этот перевод из-за того, что сконцентрированы на воплощении своей работы. Но бывает и обратная ситуация, когда художник очень много всего говорит и без нарратива вообще нельзя воспринять его работу. Тогда возникает ощущение, что работа прилеплена к тексту постфактум, текст был первичен. И, возможно, это тоже не самая удачная модель. В общем, тут нужен какой-то баланс. И отношение описания и самой работы — это тоже то, что вырабатывает каждый для себя.
Могу про себя сказать, что я вообще стремлюсь минимизировать описания и использовать инструкции к инсталляциям, потому что для меня очень важно, чтобы опыт, который происходит внутри работы, не был чисто дискурсивным и была возможность от него отвлечься. Но это зависит от специфики художественной практики разных художников.
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «Сеанс», 2018. →
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «Сеанс», 2018. →
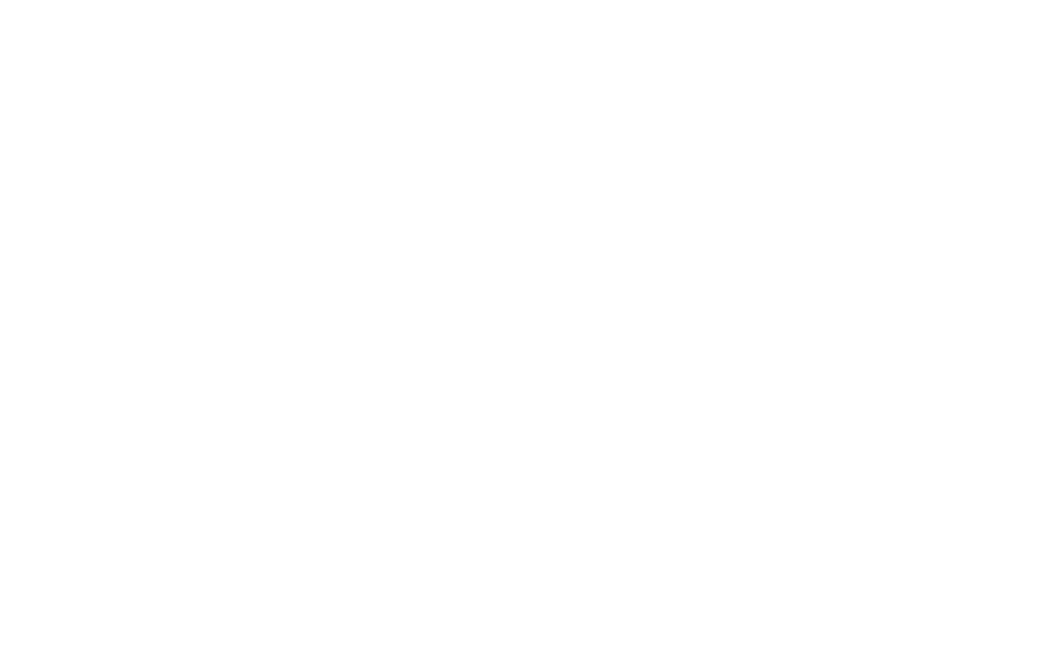
Могу про себя сказать, что я вообще стремлюсь минимизировать описания и использовать инструкции к инсталляциям, потому что для меня очень важно, чтобы опыт, который происходит внутри работы, не был чисто дискурсивным и была возможность от него отвлечься. Но это зависит от специфики художественной практики разных художников.
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «Сеанс», 2018. ↓
Скриншот из видео-документации работы Евгении Сусловой «Сеанс», 2018. ↓
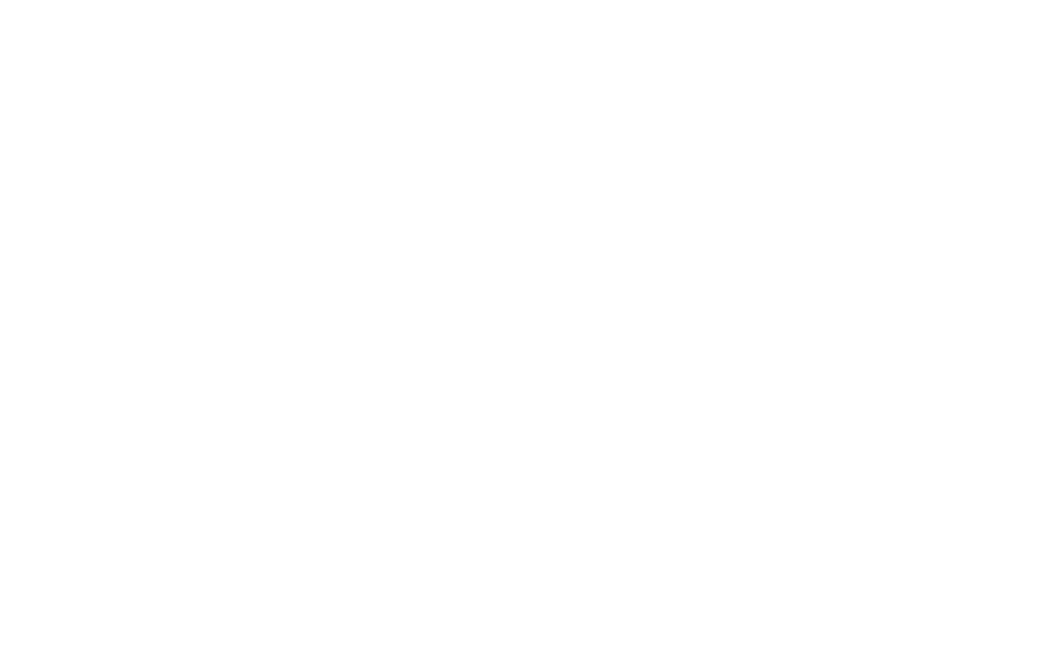
— Давай поговорим про тексты на выставках. Я наблюдаю кризис в этих текстах — разрыв между формой, самим произведением и описанием проекта. Особенно, это касается молодых художников. Почему так происходит, на твой взгляд?
— Мне кажется, что часто человек думает, что, если он сейчас не напишет текст, его не поймут. Но мы знаем в культуре очень много минималистичных форм, которые позволяют виртуозно осуществлять коммуникацию и передачу смысла. Например, какие-нибудь дзенские диалоги. Вот такой неожиданный исторический пример. Говорят они об одном, а означает это вообще другое, и несмотря на то, что слов используется очень мало, иероглифов очень мало, тем не менее очень многое сказано, то, что может качественно изменить твое понимание, даже если ты к этому не подготовлен. То же самое касается всей истории поэзии. Поэзия всегда стремилась к более емким формам, к тому, чтобы в меньшем количестве знаков выражалось больше смысла. Это некая общая тенденция. Почему возникают тексты, почему их много? Мне кажется, что это интуиция художника о том, что у него должна быть теоретическая амбиция. Это, в общем, характерно для искусства с Нового времени, особенно с модернистской эпохи, важно, чтобы художник был еще и мыслителем. И если мы возьмем разных крупных художников, то мы увидим, что это правило выдерживается, действительно. Но, конечно же, многословие не обеспечивает наличие теории, это некий компенсаторный механизм, как мне кажется. И тут скорее требуются специальные способы размышления над своей собственной практикой и поиск языка.
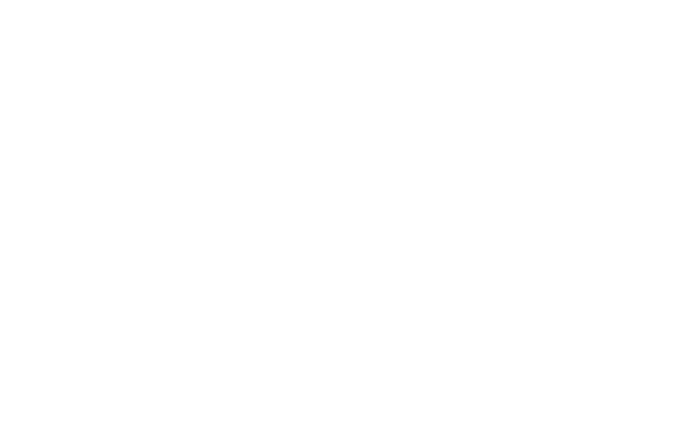
Скриншот из видео-документации перформанса Евгении Сусловой и Виктории Брызгаловой «Теплица».
Вот, например, Гейзенберг говорил, что о новой физике нельзя говорить языком старой, и если ты будешь говорить о новой физике языком ньютоновской физики, то тогда ты ее просто редуцируешь, а тебе важно заострить различия. И поэтому, например, нельзя сказать «я чувствую по-новому, но я не говорю об этом», потому что слова должны зафиксировать это различие, они должны разрезать старое и новое. И, собственно, работа должна происходить, мне кажется, здесь: с одной стороны, пытаясь ответить на вопрос «что я делаю», а с другой стороны, давая какое-то понимание, не чужое, не общее, а свое, своими словами, что вообще происходит в культурной ситуации и в плане искусства конкретно, и где-то на стыке появляется вот именно то свое, что никто другой сказать не может. Потому что еще одна проблема сейчас, которая есть с текстом, это то, что все образованные, все начитанные и все говорят неким общим языком — гуманитарный науки, философии. Этот общий язык свидетельствует об особой чувствительности к дискурсу. И, соответственно, есть просто автоматическое подключение к дискурсу, когда человек много всего прочитал, и дальше он на этом общем языке начинает говорить о своих работах с самим собой и другими. С одной стороны, никакого общего языка в принципе быть не может. Но, с другой стороны, не нужно вылезать из пещеры, абстрагироваться от культурной ситуации. Конечно, ее нужно знать. Но вопрос в том, как ты сам с собой разговариваешь о ней, на каком языке.
Твой язык ниоткуда не может быть заимствован, он может быть только выработан. Если твой сосед создал такой язык, это его язык, ты не можешь у него взять, потому что как только подключаешься к общему дискурсу, то эта работа как бы аннулируется — она становится не твоей, а принадлежащей вот этому общему культурному полю.
— Нужно ли художнику вообще писать? Чем письмо художника отличается от, например, журналистского текста?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить тексты об искусстве и тексты, написанные самими художниками. Например, тексты режиссеров и тексты киноведов — это совершенно разное. Конечно же, через текст режиссера транслируется его опыт. И это то, что киновед просто не может сделать, его опыт другой. Если ты художник, то, конечно, для тебя текст режиссера будет живительным и открывающим, а текст киноведа не будет, он будет для тебя описательным. В этом принципиальная разница. То есть текст художника укоренен в его практике. Сегодня, когда я читаю тексты художников, у меня часто возникает такое ощущение, что они встают на позицию ученых, то есть они как будто бы аннулируют свою собственную позицию художника и пишут не из сердцевины собственной практики, а из некоторого общего поля знания. И я в этом вижу тоже проблему, потому что именно в письме художника кристаллизуются эстетические принципы. И конкретно в моем опыте был период, когда мы собирались с моими коллегами на кухне и по 5−6 часов просто разговаривали о поэзии, об искусстве. Это происходило много лет — прояснение теоретических оснований. Я уверена глубоко, что без этих разговоров какие-то вещи в моей практике письма не сформировались бы. Если нет вот этого микросообщества, когда один создает что-то в свете другого… Это большая удача, если так в жизни происходит.
Разговоры не даются просто так. Бывает, что ты встречаешь кого-то и в свете того, что он делает и говорит, ты открываешь некоторую особую возможность, и это большая радость. Это тоже про коммуникацию, даже если прямой коммуникации нет.
«Итак, когда художник пишет, он проясняет основания и ищет язык»
Поэтому очень важно писать. Очень важно. Но не порождать наукообразные нарративы. Просто среда, инфраструктура искусства так функционирует, что художник — он и критик, и ученый, эти нарративы производятся автоматически. В них иногда невозможно обнаружить, что это за художник. А как это может быть так, что в тексте не проявляется, кто это? Здесь какая-то проблема. Выходит, что он пишет на некоторой дистанции от себя, от своего, возможно, скрытого, эстетического принципа. Если игровая дистанция специально продумана, это хорошо, но, как правило, это некая автоматическая позиция, которая диктуется дискурсом, и это плохо.
— К вопросу о коллаборациях: расскажи о своем проекте в Венеции совместно с Александрой Сухаревой. Каким образом там твой текст взаимодействовал с материальным визуальным произведением Саши?
— Достаточно сложно рассказывать об этой работе, потому что в Венеции был некоторый материальный эквивалент, материальный результат всего процесса, и работа была обозначена как необъявленный перформанс. И до этого полгода мы интенсивно работали. Наверное, для меня сам материальный результат важен, но еще важнее то, что стоит за этим. Я очень благодарна Саше за то, что она пригласила меня работать с ней. Это очень важный внутренний опыт для меня.
Мы ставили вопрос о том, что такое коммуникация. Цифровые среды создают дискретную модель коммуникации, а может ли быть некоторый континуум? Нас интересовало создание таких объектов, в данном случае текстовых объектов, которые могут задавать особые ментальные и телесные процессы. В частности, задача заключалась в том, чтобы создать тексты, двустишия, которые при проговаривании создают определенное распределение напряжения в теле. То, что мы говорим и думаем, создает напряжение и распределение в теле. Это знают все. Это общее место. Это связано с пластичностью, с визуализацией, со многими другими когнитивными процессами. Когда мы думаем о том, что нам не нравится, у нас давление поднимается. Но в то же время, если мы работаем над продумыванием каких-то фраз, допустим, мы настраиваем наше тело определенным образом, то также можем изменить схему состояния.
Итак, благодаря тексту создается некоторое состояние, и в этом состоянии Саша должна была выливать на стекла реактивы, в результате чего возникали химические узоры. Дело в том, что в это время материя очень подвижна. И было интересно, можно ли создать такой, условно говоря, портрет ситуации. Потом эти стекла погружались в дистиллированную воду (это то, что уже было в Венеции), в такие колодцы, и под действием солнечного света реактивы испарялись, и постепенно оставались только чистые стекла. Изображение исчезало, но по бортикам, по границам были выгравированы эти тексты. Таким образом, была возможность с ними провзаимодействовать. И для нас, конечно, был важен момент перехода и возможность передачи некоторого сообщения некоторому телесному действию, то есть организация телесной деятельности, вернее, телесно-когнитивной.
Как были построены эти тексты? Если упрощать, то первая строка разгоняет воображение, и возникает какой-то парадоксальный образ, который тебя захватывает. Он создает сильное напряжение, интенсивность. А вторая строка блокирует этот образ, и таким образом ты получаешь то же самое переживание, но уже без образа. То есть сначала у тебя есть в сознании картинка, а потом ты резко блокируешь картинку, то есть создаешь какой-то парадокс, который как бы отменяет первую строку. Соответственно, нужно было сначала создать образ, потом заблокировать, чтобы остаться с переживанием в чистой форме.
Мы ставили вопрос о том, что такое коммуникация. Цифровые среды создают дискретную модель коммуникации, а может ли быть некоторый континуум? Нас интересовало создание таких объектов, в данном случае текстовых объектов, которые могут задавать особые ментальные и телесные процессы. В частности, задача заключалась в том, чтобы создать тексты, двустишия, которые при проговаривании создают определенное распределение напряжения в теле. То, что мы говорим и думаем, создает напряжение и распределение в теле. Это знают все. Это общее место. Это связано с пластичностью, с визуализацией, со многими другими когнитивными процессами. Когда мы думаем о том, что нам не нравится, у нас давление поднимается. Но в то же время, если мы работаем над продумыванием каких-то фраз, допустим, мы настраиваем наше тело определенным образом, то также можем изменить схему состояния.
Итак, благодаря тексту создается некоторое состояние, и в этом состоянии Саша должна была выливать на стекла реактивы, в результате чего возникали химические узоры. Дело в том, что в это время материя очень подвижна. И было интересно, можно ли создать такой, условно говоря, портрет ситуации. Потом эти стекла погружались в дистиллированную воду (это то, что уже было в Венеции), в такие колодцы, и под действием солнечного света реактивы испарялись, и постепенно оставались только чистые стекла. Изображение исчезало, но по бортикам, по границам были выгравированы эти тексты. Таким образом, была возможность с ними провзаимодействовать. И для нас, конечно, был важен момент перехода и возможность передачи некоторого сообщения некоторому телесному действию, то есть организация телесной деятельности, вернее, телесно-когнитивной.
Как были построены эти тексты? Если упрощать, то первая строка разгоняет воображение, и возникает какой-то парадоксальный образ, который тебя захватывает. Он создает сильное напряжение, интенсивность. А вторая строка блокирует этот образ, и таким образом ты получаешь то же самое переживание, но уже без образа. То есть сначала у тебя есть в сознании картинка, а потом ты резко блокируешь картинку, то есть создаешь какой-то парадокс, который как бы отменяет первую строку. Соответственно, нужно было сначала создать образ, потом заблокировать, чтобы остаться с переживанием в чистой форме.
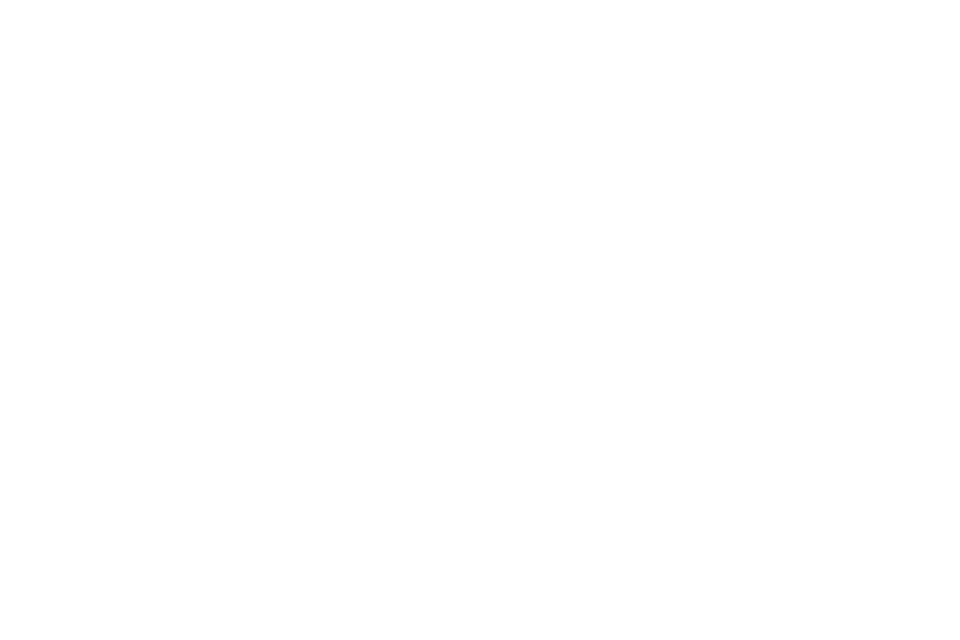
I move reactions without touching them.
I can speak on the edge of recognition.
Я двигаю обратные связи, не прикасаясь к ним.
Я могу говорить на острие признания.
I can speak on the edge of recognition.
Я двигаю обратные связи, не прикасаясь к ним.
Я могу говорить на острие признания.
Текст Евгения Суслова
← Ligeia, 2018−19. Unannounced performance. Alexandra Sukhareva with the participation of Eugenia Suslova. Фотография: Александра Сухарева.
← Ligeia, 2018−19. Unannounced performance. Alexandra Sukhareva with the participation of Eugenia Suslova. Фотография: Александра Сухарева.
I move reactions without touching them.
I can speak on the edge of recognition.
Я двигаю обратные связи, не прикасаясь к ним.
Я могу говорить на острие признания.
I can speak on the edge of recognition.
Я двигаю обратные связи, не прикасаясь к ним.
Я могу говорить на острие признания.
Текст Евгения Суслова
Ligeia, 2018−19. Unannounced performance. Alexandra Sukhareva with the participation of Eugenia Suslova. Фотография: Александра Сухарева. ↓
Ligeia, 2018−19. Unannounced performance. Alexandra Sukhareva with the participation of Eugenia Suslova. Фотография: Александра Сухарева. ↓
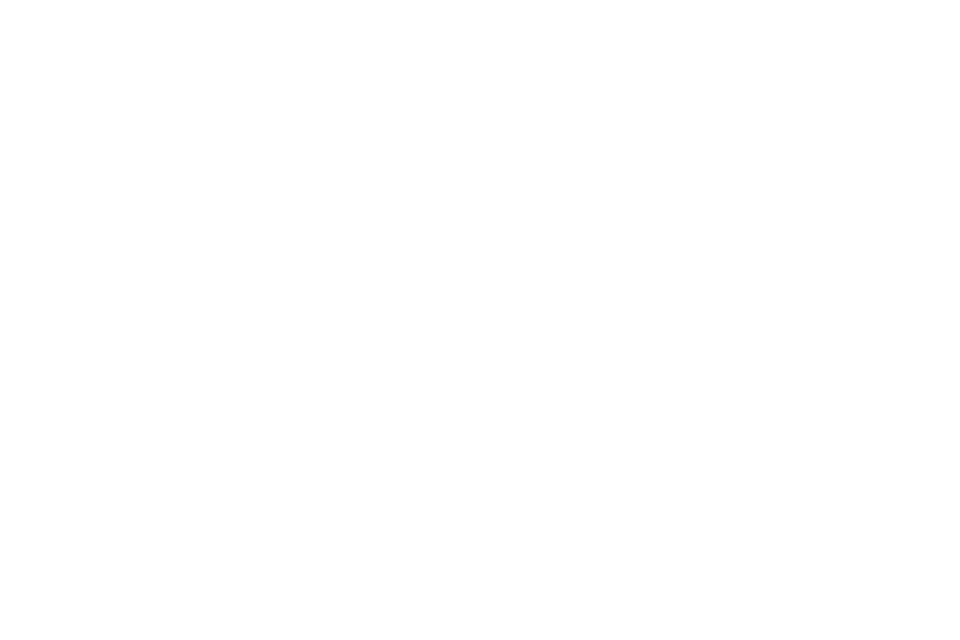
Ты получаешь переживание в свернутом виде, и оно как бы запечатывается. Я знаю, что смысл может существовать в разных степенях развернутости. Когда мы что-то объясняем кому-то и долго не можем объяснить, то мы это развертываем, но когда, например, мы долго думаем над какой-то проблемой и она является нам одномоментно, в виде инсайта, картинки, мы получаем много информации одновременно, она приходит в свернутом виде. Соответственно, можно при определенных настройках работать с информацией в разных формах, в свернутой, в развернутой, в зависимости от ситуации. Иногда нужно сразу много информации получить, и тогда это качественно смещает твое состояние. Но иногда состояние не так важно, а важно вынести какую-то мысль очень конкретную, и тогда важны другие формы. Это уже другой вопрос. Это еще одно измерение.
— И уже другое, мне кажется, большое интервью, статья и т. д.
— Да, но я бы сказала, что здесь работа с языком смыкается с психотехнической работой, а это нужно для очень специальных задач. Не на первом этапе, мне кажется, точно. Но это тоже важно.
— В заключении хотелось бы поговорить об образовании. Ты профессионально работаешь с темой коммуникации, и хотелось узнать, какую разницу ты видишь между онлайн- и офлайн-образованием? Видишь ли ты для себя какие-то особенности в построении коммуникации? В чем положительные и отрицательные стороны? На что делать упор в онлайн-образовании?
— Первое, что важно, — это не рассматривать онлайн как компромисс офлайну. Для меня это абсолютно не так. Это две разные формы. Первая форма — когда мы сидим лицом к лицу с учениками, если это небольшая группа или индивидуальные занятия. Офлайн-режим лучше для разговора, для того, чтобы, задавая вопросы, прояснить некоторые обстоятельства, которые были скрыты. Допустим, они уже были в сознании ученика, но были скрыты. Это такая эвристическая форма. А онлайн, мне кажется, носит совершенно другую природу. И это очень удачная форма, если речь идет о письме и если в занятия встроено письмо как практика, потому что когда вы сидите за столом, то очень часто человек вообще не может написать что-либо. Ты, например, ему говоришь: «У тебя 15 минут на задание» — и человек не может это сделать. Я точно так же устроена, и, чтобы что-то написать, мне нужно закрыться от всех и погрузиться в работу. Умение находиться наедине с собой тоже очень существенная практика. И вот здесь онлайн на руку. Человек сидит в том пространстве, в котором ему комфортно, и у него нет ощущения, что его деятельность деформируется наблюдателем, да еще и авторитетным наблюдателем в лице преподавателя, а тут еще и вокруг все пишут. То есть в этом смысле действительно письмо требует уединения, даже прагматически ориентированное письмо. Второй момент — это момент, связанный с тем, что часто, не видя своего собеседника и общаясь через голос, ты можешь сказать какие-то вещи, которые ты не можешь сказать, если смотришь на собеседника, и общение будет развертываться совершенно по-другому. И у меня есть опыт, когда мы сначала встречались с моей ученицей просто в живом режиме и у нас одним образом разворачивалась стратегия отношений и ее письма. А потом в какой-то момент я почувствовала, что нужно перейти на Скайп, и мы стали общаться онлайн, и отношения абсолютно по-другому развернулись. И в этом смысле, конечно же, medium is the message. То есть действительно, говоря по телефону, говоря по Скайпу или встречаясь, ты должен обнаружить сначала специфику медиума и понять, какие формы будут оптимальными для каких заданий. Я могу сказать про онлайн, резюмируя, что, во-первых, это удобно, потому что есть возможность не терять некоторое уединение, которое требуется для этого занятия. Во-вторых, есть возможность контролировать дистанцию, и это тоже для письма очень важно. И, с другой стороны, можно находиться в той среде, в которой тебе будет наиболее естественно находиться. Например, я хочу писать в парке, и я иду писать в парк, а в аудитории с неудобными стульями неудобно писать, я не могу там ничего сделать. Более того, если я буду писать некрасивой ручкой, то у меня получится хуже, чем если я буду писать другой ручкой или записывать в планшет или еще куда-нибудь. То есть тут всё-всё-всё работает, потому что при письме важно и тело, и контекст, в котором ты находишься, и наблюдатели. Вот наблюдатель — это принципиальная вещь. То есть все-таки позиция говорящего, позиция преподавателя очень сильно давит, и очень сложно от этого избавиться. А онлайн позволяет как-то ослабить этот момент.
— Даже сейчас я беру у тебя интервью онлайн по скайпу, просто потому что я не могу приехать в Нижний, а ты в Москву.
— Это тоже очень важно. У меня был опыт, когда я получала стипендию, как раз работая в проекте «Интерфейсы и визуализация в цифровых гуманитарных проектах» под руководством Галины Орловой. Мы полгода делали семинар в виртуальной комнате. И у нас были коллеги из Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга, сама Галина была в Вильнюсе или Ростове, например, а я — в Москве или Нижнем Новгороде. И это, конечно, совершенно особенные ощущения, когда есть не так много специалистов и все эти специалисты могут присутствовать в этой виртуальной комнате, но они бы никогда в жизни не собрались реально в какой-то физическом пространстве. И в этом смысле я очень верю в узкоспециальные конференции, которые проводятся в виртуальных комнатах, потому что есть возможность собрать именно тех людей, которым действительно стоит там находиться, а не просто каких-то случайных людей, которые смогли доехать. Соответственно, эта возможность — это очень важно. То же самое связано с обучением. Тот, кто не может доехать до Москвы и с 10 до 18 учиться шесть дней в неделю в Школе Родченко, он может вполне в таком режиме находиться, и я не думаю, что это скажется на качестве.
— Спасибо большое, я думаю, что мы очень развернуто обсудили то, что меня сильно волновало последнее время и хотелось обсудить.
ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?


